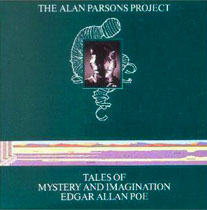| Edgar Allan Poe, “The Cask of
Amontillado”
THE thousand injuries of Fortunato I had borne as I best could; but
when he ventured upon insult, I vowed revenge. You, who so well know the
nature of my soul, will not suppose, however, that I gave utterance to a
threat. At length I would be avenged; this was a point definitively
settled — but the very definitiveness with which it was resolved,
precluded the idea of risk. I must not only punish, but punish with
impunity. A wrong is unredressed when retribution overtakes its redresser.
It is equally unredressed when the avenger fails to make himself felt as
such to him who has done the wrong.
It must be understood, that neither by word nor deed had I given
Fortunato cause to doubt my good will. I continued, as was my wont, to
smile in his face, and he did not perceive that my smile now was at the
thought of his immolation.
He had a weak point — this Fortunato — although in other regards he
was a man to be respected and even feared. He prided himself on his
connoisseurship in wine. Few Italians have the true virtuoso spirit. For
the most part their enthusiasm is adopted to suit the time and opportunity
— to practise imposture upon the British and Austrian millionaires. In
painting and gemmary, Fortunato, like his countrymen, was a quack — but in
the matter of old wines he was sincere. In this respect I did not differ
from him materially: I was skilful in the Italian vintages myself, and
bought largely whenever I could.
It was about dusk, one evening during the supreme madness of the
carnival season, that I encountered my friend. He accosted [page 347:] me
with excessive warmth, for he had been drinking much. The man wore motley.
He had on a tight-fitting parti-striped dress, and his head was surmounted
by the conical cap and bells. I was so pleased to see him, that I thought
I should never have done wringing his hand.
I said to him — “My dear Fortunato, you are luckily met. How
remarkably well you are looking to-day! But I have received a pipe of what
passes for Amontillado, and I have my doubts.”
“How?” said he. “Amontillado? A pipe? Impossible! And in the middle
of the carnival!”
“I have my doubts,” I replied; “and I was silly enough to pay the
full Amontillado price without consulting you in the matter. You were not
to be found, and I was fearful of losing a bargain.”
“Amontillado!”
“I have my doubts.”
“Amontillado!”
“And I must satisfy them.”
“Amontillado!”
“As you are engaged, I am on my way to Luchesi. If any one has a
critical turn, it is he. He will tell me ——”
“Luchesi cannot tell Amontillado from Sherry.”
“And yet some fools will have it that his taste is a match for your
own.”
“Come, let us go.”
“Whither?”
“To your vaults.”
“My friend, no; I will not impose upon your good nature. I perceive
you have an engagement. Luchesi ——”
“I have no engagement; — come.”
“My friend, no. It is not the engagement, but the severe cold with
which I perceive you are afflicted. The vaults are insufferably damp. They
are encrusted with nitre.”
“Let us go, nevertheless. The cold is merely nothing. Amontillado!
You have been imposed upon. And as for Luchesi, he cannot distinguish
Sherry from Amontillado.”
Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. Putting on a
mask of black silk, and drawing a roquelaire closely about my person, I
suffered him to hurry me to my palazzo. [page 348:]
There were no attendants at home; they had absconded to make merry
in honor of the time. I had told them that I should not return until the
morning, and had given them explicit orders not to stir from the house.
These orders were sufficient, I well knew, to insure their immediate
disappearance, one and all, as soon as my back was turned.
I took from their sconces two flambeaux, and giving one to
Fortunato, bowed him through several suites of rooms to the archway that
led into the vaults. I passed down a long and winding staircase,
requesting him to be cautious as he followed. We came at length to the
foot of the descent, and stood together on the damp ground of the
catacombs of the Montresors.
The gait of my friend was unsteady, and the bells upon his cap
jingled as he strode.
“The pipe,” said he.
“It is farther on,” said I; “but observe the white web-work which
gleams from these cavern walls.”
He turned towards me, and looked into my eyes with two filmy orbs
that distilled the rheum of intoxication.
“Nitre?” he asked, at length.
“Nitre,” I replied. “How long have you had that cough?”
“Ugh! ugh! ugh! — ugh! ugh! ugh! — ugh! ugh! ugh! — ugh! ugh! ugh!
— ugh! ugh! ugh!”
My poor friend found it impossible to reply for many minutes.
“It is nothing,” he said, at last.
“Come,” I said, with decision, “we will go back; your health is
precious. You are rich, respected, admired, beloved; you are happy, as
once I was. You are a man to be missed. For me it is no matter. We will go
back; you will be ill, and I cannot be responsible. Besides, there is
Luchesi ——”
“Enough,” he said; “the cough is a mere nothing; it will not kill
me. I shall not die of a cough.”
“True — true,” I replied; “and, indeed, I had no intention of
alarming you unnecessarily — but you should use all proper caution. A
draught of this Medoc will defend us from the damps.”
Here I knocked off the neck of a bottle which I drew from a long
row of its fellows that lay upon the mould.
“Drink,” I said, presenting him the wine. [page 349:]
He raised it to his lips with a leer. He paused and nodded to me
familiarly, while his bells jingled.
“I drink,” he said, “to the buried that repose around us.”
“And I to your long life.”
He again took my arm, and we proceeded.
“These vaults,” he said, “are extensive.”
“The Montresors,” I replied, “were a great and numerous family.”
“I forget your arms.”
“A huge human foot d‘or, in a field azure; the foot crushes a
serpent rampant whose fangs are imbedded in the heel.”
“And the motto?”
“Nemo me impune lacessit.”
“Good!” he said.
The wine sparkled in his eyes and the bells jingled. My own fancy
grew warm with the Medoc. We had passed through walls of piled bones, with
casks and puncheons intermingling, into the inmost recesses of the
catacombs. I paused again, and this time I made bold to seize Fortunato by
an arm above the elbow.
“The nitre!” I said: “see, it increases. It hangs like moss upon
the vaults. We are below the river‘s bed. The drops of moisture trickle
among the bones. Come, we will go back ere it is too late. Your cough ——”
“It is nothing,” he said; “let us go on. But first, another draught
of the Medoc.”
I broke and reached him a flacon [[flaçon]] of De Grâve. He emptied
it at a breath. His eyes flashed with a fierce light. He laughed and threw
the bottle upwards with a gesticulation I did not understand.
I looked at him in surprise. He repeated the movement — a grotesque
one.
“You do not comprehend?” he said.
“Not I,” I replied.
“Then you are not of the brotherhood.”
“How?”
“You are not of the masons.”
“Yes, yes,” I said, “yes, yes.” [page 350:]
“You? Impossible! A mason?”
“A mason,” I replied.
“A sign,” he said.
“It is this,” I answered, producing a trowel from beneath the folds
of my roquelaire.
“You jest,” he exclaimed, recoiling a few paces. “But let us
proceed to the Amontillado.”
“Be it so,” I said, replacing the tool beneath the cloak, and again
offering him my arm. He leaned upon it heavily. We continued our route in
search of the Amontillado. We passed through a range of low arches,
descended, passed on, and descending again, arrived at a deep crypt, in
which the foulness of the air caused our flambeaux rather to glow than
flame.
At the most remote end of the crypt there appeared another less
spacious. Its walls had been lined with human remains, piled to the vault
overhead, in the fashion of the great catacombs of Paris. Three sides of
this interior crypt were still ornamented in this manner. From the fourth
the bones had been thrown down, and lay promiscuously upon the earth,
forming at one point a mound of some size. Within the wall thus exposed by
the displacing of the bones, we perceived a still interior recess, in
depth about four feet, in width three, in height six or seven. It seemed
to have been constructed for no especial use in itself, but formed merely
the interval between two of the colossal supports of the roof of the
catacombs, and was backed by one of their circumscribing walls of solid
granite.
It was in vain that Fortunato, uplifting his dull torch, endeavored
to pry into the depths of the recess. Its termination the feeble light did
not enable us to see.
“Proceed,” I said; “herein is the Amontillado. As for Luchesi ——”
“He is an ignoramus,” interrupted my friend, as he stepped
unsteadily forward, while I followed immediately at his heels. In an
instant he had reached the extremity of the niche, and finding his
progress arrested by the rock, stood stupidly bewildered. A moment more
and I had fettered him to the granite. In its surface were two iron
staples, distant from each other about two feet, horizontally. From one of
these depended a short chain, from the other a padlock. Throwing the links
about his waist, it was [page 351:] but the work of a few seconds to
secure it. He was too much astounded to resist. Withdrawing the key I
stepped back from the recess.
“Pass your hand,” I said, “over the wall; you cannot help feeling
the nitre. Indeed it is very damp. Once more let me implore you to return.
No? Then I must positively leave you. But I must first render you all the
little attentions in my power.”
“The Amontillado!” ejaculated my friend, not yet recovered from his
astonishment.
“True,” I replied; “the Amontillado.”
As I said these words I busied myself among the pile of bones of
which I have before spoken. Throwing them aside, I soon uncovered a
quantity of building stone and mortar. With these materials and with the
aid of my trowel, I began vigorously to wall up the entrance of the niche.
I had scarcely laid the first tier of my masonry when I discovered
that the intoxication of Fortunato had in a great measure worn off. The
earliest indication I had of this was a low moaning cry from the depth of
the recess. It was not the cry of a drunken man. There was then a long and
obstinate silence. I laid the second tier, and the third, and the fourth;
and then I heard the furious vibrations of the chain. The noise lasted for
several minutes, during which, that I might hearken to it with the more
satisfaction, I ceased my labors and sat down upon the bones. When at last
the clanking subsided, I resumed the trowel, and finished without
interruption the fifth, the sixth, and the seventh tier. The wall was now
nearly upon a level with my breast. I again paused, and holding the
flambeaux over the mason-work, threw a few feeble rays upon the figure
within.
A succession of loud and shrill screams, bursting suddenly from the
throat of the chained form, seemed to thrust me violently back. For a
brief moment I hesitated — I trembled. Unsheathing my rapier, I began to
grope with it about the recess: but the thought of an instant reassured
me. I placed my hand upon the solid fabric of the catacombs, and felt
satisfied. I reapproached the wall. I replied to the yells of him who
clamored. I re-echoed — I aided — I surpassed them in volume and in
strength. I did this, and the clamorer grew still. [page 352:]
It was now midnight, and my task was drawing to a close. I had
completed the eighth, the ninth, and the tenth tier. I had finished a
portion of the last and the eleventh; there remained but a single stone to
be fitted and plastered in. I struggled with its weight; I placed it
partially in its destined position. But now there came from out the niche
a low laugh that erected the hairs upon my head. It was succeeded by a sad
voice, which I had difficulty in recognising as that of the noble
Fortunato. The voice said —
“Ha! ha! ha! — he! he! — a very good joke indeed — an excellent
jest. We will have many a rich laugh about it at the palazzo — he! he! he!
— over our wine — he! he! he!”
“The Amontillado!” I said.
“He! he! he! — he! he! he! — yes, the Amontillado. But is it not
getting late? Will not they be awaiting us at the palazzo, the Lady
Fortunato and the rest? Let us be gone.”
”Yes,” I said, “let us be gone.”
“For the love of God, Montressor!”
“Yes,” I said, “for the love of God!”
But to these words I hearkened in vain for a reply. I grew
impatient. I called aloud —
“Fortunato!”
No answer. I called again —
“Fortunato!”
No answer still. I thrust a torch through the remaining aperture
and let it fall within. There came forth in return only a jingling of the
bells. My heart grew sick — on account of the dampness of the catacombs. I
hastened to make an end of my labor. I forced the last stone into its
position; I plastered it up. Against the new masonry I re-erected the old
rampart of bones. For the half of a century no mortal has disturbed them.
In pace requiescat!
|
Эдгар Аллан По. Бочонок амонтильядо,
перевод О.Холмской
Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортунато, но, когда он нанес
мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, так хорошо знающий природу моей
души, не думаете, конечно, что я вслух произнес угрозу. В конце концов я
буду отомщен: это было твердо решено, -- но самая твердость решения
обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но
покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мстителя настигает
расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука
обрушила на него кару.
Ни словом, ни поступком я не дал Фортунато повода усомниться в моем
наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо; и он не
знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.
У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других
отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться.
Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают
истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они
надевают на время и по мере надобности, -- для того, чтобы удобнее
надувать английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается
старинных картин и старинных драгоценностей, Фортунато, как и прочие его
соотечественники, был шарлатаном; но в старых винах он в самом деле
понимал толк. Я разделял его вкусы: я сам высоко ценил итальянские вина и
всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу.
Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие
карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным
жаром, -- как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить; он был одет
арлекином: яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с
бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из
своих, горячо ее пожимая.
Я сказал ему:
-- Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас
цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере,
продавец утверждает, что это амонтильядо, но у меня есть сомнения.
-- Что? -- сказал он. -- Амонтильядо? Целый бочонок? Не может быть!
И еще в самый разгар карнавала!
-- У меня есть сомнения, -- ответил я, -- и я, конечно, поступил
опрометчиво, заплатив за это вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись
сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.
-- Амонтильядо!
-- У меня сомнения.
-- Амонтильядо!
-- И я должен их рассеять.
-- Амонтильядо!
-- Вы заняты, поэтому я иду к Лукрези, Если кто может мне дать
совет, то только он. Он мне скажет...
-- Лукрези не отличит амонтильядо от хереса.
-- А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий
вкус, чем у вас.
-- Идемте.
-- Куда?
-- В ваши погреба.
-- Нет, мой друг. Я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу,
вы заняты. Лукрези...
-- Я не занят. Идем.
-- Друг мой, ни в коем случае. Пусть даже вы свободны, но я вижу,
что вы жестоко простужены. В погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь
покрыты селитрой.
-- Все равно, идем. Простуда -- это вздор. Амонтильядо! Вас
бессовестно обманули. А что до Лукрези -- он не отличит хереса от
амонтильядо.
Говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную
шелковую маску и плотней запахнув домино, позволил ему увлечь меня по
дороге к моему палаццо.
Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому,
чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил их, что
вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из
дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до
единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной.
Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном
пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду,
откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице,
делавшей множество поворотов; Фортунато шел за мной, и я умолял его
ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба
стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезоров.
Мой друг шел нетвердой походкой, бубенчики на его колпаке
позванивали при каждом шаге.
-- Где же бочонок? -- сказал он.
-- Там, подальше, -- ответил я. -- Но поглядите, какая белая
паутина покрывает стены этого подземелья. Как она сверкает!
Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами
опьянения.
-- Селитра? -- спросил он после молчания.
-- Селитра, -- подтвердил я. -- Давно ли у вас этот кашель?
-- Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха!
В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.
-- Это пустяки, -- выговорил он наконец.
-- Нет, -- решительно сказал я, -- вернемся. Ваше здоровье слишком
драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы
счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградимой
утратой. Другое дело я -- обо мне некому горевать. Вернемся. Вы заболеете,
я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукрези...
-- Довольно! -- воскликнул он. -- Кашель -- это вздор, он меня не
убьет! Не умру же я от кашля.
-- Конечно, конечно, -- сказал я, -- и я совсем не хотел внушать
вам напрасную тревогу. Однако следует принять меры предосторожности.
Глоток вот этого медока защитит вас от вредного действия сырости.
Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и
отбил горлышко.
-- Выпейте, -- сказал я, подавая ему вино.
Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем
приостановился и развязно кивнул мне, бубенчики его зазвенели.
-- Я пью, -- сказал он, -- за мертвецов, которые покоятся вокруг
нас.
-- А я за вашу долгую жизнь.
Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.
-- Эти склепы, -- сказал он, -- весьма обширны.
-- Монтрезоры старинный и плодовитый род, -- сказал я.
-- Я забыл, какой у вас герб?
-- Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она
попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку.
-- А ваш девиз?
-- Nemo me impune lacessit! [Никто не оскорбит меня безнаказанно!
(Лат.)]
-- Недурно! -- сказал он.
Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок
разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах
сложены были скелеты вперемежку с бочонками и большими бочками. Наконец мы
достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился и на этот
раз позволил себе схватить Фортунато за руку повыше локтя.
-- Селитра! -- сказал я. -- Посмотрите, ее становится все больше.
Она, как мох, свисает со сводов. Мы сейчас находимся под самым руслом
реки. Вода просачивается сверху и каплет на эти мертвые кости. Лучше
уйдем, пока не поздно. Ваш кашель...
-- Кашель -- это вздор, -- сказал он. -- Идем дальше. Но сперва еще
глоток медока.
Я взял бутылку деграва, отбил горлышко и подал ему. Он осушил ее
одним духом. Глаза его загорелись диким огнем. Он захохотал и подбросил
бутылку кверху странным жестом, которого я не понял.
Я удивленно взглянул на него. Он повторил жест, который показался
мне нелепым.
-- Вы не понимаете? -- спросил он.
-- Нет, -- ответил я.
-- Значит, вы не принадлежите к братству.
-- Какому?
-- Вольных каменщиков.
-- Нет, я каменщик, -- сказал я.
-- Вы? Не может быть! Вы вольный каменщик?
-- Да, да, -- ответил я. -- Да, да.
-- Знак, -- сказал он, -- дайте знак.
-- Вот он, -- ответил я, распахнув домино и показывая ему лопатку.
-- Вы шутите, -- сказал он, отступая на шаг. -- Однако где же
амонтильядо? Идемте дальше.
-- Пусть будет так, -- сказал я, пряча лопатку в складках плаща и
снова подавая ему руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали путь в
поисках амонтильядо. Мы прошли под низкими арками, спустились по ступеням,
снова прошли под аркой, снова спустились и наконец достигли глубокого
подземелья, воздух в котором был настолько сперт, что факелы здесь тускло
тлели, вместо того чтобы гореть ярким пламенем.
В дальнем углу этого подземелья открывался вход в другое, менее
поместительное. Вдоль его стен, от пола до сводчатого потолка, были
сложены человеческие кости, -- точно так, как это можно видеть в обширных
катакомбах, проходящих под Парижем. Три стены были украшены таким образом;
с четвертой кости были сброшены вниз и в беспорядке валялись на земле,
образуя в одном углу довольно большую груду. Стена благодаря этому
обнажилась, и в ней стал виден еще более глубокий тайник, или ниша,
размером в четыре фута в глубину, три в ширину, шесть или семь в высоту.
Ниша эта, по-видимому, не имела никакого особенного назначения; то был
просто закоулок между двумя огромными столбами, поддерживавшими свод, а
задней ее стеной была массивная гранитная стена подземелья.
Напрасно Фортунато, подняв свой тусклый факел, пытался заглянуть в
глубь тайника. Слабый свет не проникал далеко.
-- Войдите, -- сказал я. -- Амонтильядо там. А что до Лукрези...
-- Лукрези невежда, -- прервал меня мой друг и нетвердо шагнул
вперед. Я следовал за ним по пятам. Еще шаг -- и он достиг конца ниши.
Чувствуя, что каменная стена преграждает ему путь, он остановился в тупом
изумлении. Еще миг -- и я приковал его к граниту. В стену были вделаны два
кольца, на расстоянии двух футов одно от другого. С одного свисала
короткая цепь, с другого -- замок. Нескольких секунд мне было достаточно,
чтобы обвить цепь вокруг его талии и запереть замок. Он был так ошеломлен,
что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад и покинул
нишу.
-- Проведите рукой по стене, -- сказал я. -- Вы чувствуете, какой
на ней слой селитры? Здесь в самом деле очень сыро. Еще раз умоляю вас --
вернемся. Нет? Вы не хотите? В таком случае я вынужден вас покинуть. Но
сперва разрешите мне оказать вам те мелкие услуги, которые еще в моей
власти.
-- Амонтильядо! -- вскричал мой друг, все еще не пришедший в себя
от изумления.
-- Да, -- сказал я, -- амонтильядо.
С этими словами я повернулся к груде костей, о которой уже
упоминал. Я разбросал их, и под ними обнаружился порядочный запас
обтесанных камней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей
лопаткой, я принялся поспешно замуровывать вход в нишу.
Я не успел еще уложить и один ряд, как мне стало ясно, что
опьянение Фортунато наполовину уже рассеялось. Первым указанием был слабый
стон, донесшийся из глубины тайника. То не был стон пьяного человека.
Затем наступило долгое, упорное молчание. Я выложил второй ряд, и третий,
и четвертый; и тут я услышал яростный лязг цепи. Звук этот продолжался
несколько минут, и я, чтобы полнее им насладиться, отложил лопатку и
присел на груду костей. Когда лязг наконец прекратился, я снова взял
лопатку и без помех закончил пятый, шестой и седьмой ряд. Теперь стена
доходила мне почти до груди. Я вновь приостановился и, подняв факел над
кладкой, уронил слабый луч на темную фигуру в тайнике.
Громкий пронзительный крик, целый залп криков, вырвавшихся внезапно
из горла скованного узника, казалось, с силой отбросил меня назад. На миг
я смутился, я задрожал. Выхватив шпагу из ножен, я начал шарить ее концом
в нише, но секунда размышления вернула мне спокойствие. Я тронул рукой
массивную стену катакомбы и ощутил глубокое удовлетворение. Я вновь
приблизился к стенке и ответил воплем на вопль узника. Я помогал его
крикам, я вторил им, я превосходил их силой и яростью. Так я сделал, и
кричавший умолк.
Была уже полночь, и труд мой близился к окончанию. Я выложил
восьмой, девятый и десятый ряд. Я довел почти до конца одиннадцатый и
последний, оставалось вложить всего один лишь камень и заделать его. Я
поднял его с трудом; я уже наполовину вдвинул его на предназначенное
место. Внезапно из ниши раздался тихий смех, от которого волосы у меня
встали дыбом. Затем заговорил жалкий голос, в котором я едва узнал голос
благородного Фортунато.
-- Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Отличная шутка, честное слово, превосходная
шутка! Как мы посмеемся над ней, когда вернемся в палаццо, -- хи-хи-хи! --
за бокалом вина -- хи-хи-хи!
-- Амонтильядо! -- сказал я.
-- Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Да, да, амонтильядо. Но не кажется ли вам,
что уже очень поздно? Нас, наверное, давно ждут в палаццо... и синьора
Фортунато и гости?.. Пойдемте.
-- Да, -- сказал я. -- Пойдемте.
-- Ради всего святого, Монтрезор!
-- Да, -- сказал я. -- Ради всего святого.
Но я напрасно ждал ответа на эти слова. Я потерял терпение.
Я громко позвал:
-- Фортунато!
Молчание. Я позвал снова.
-- Фортунато!
По-прежнему молчание. Я просунул факел в не заделанное еще
отверстие и бросил его в тайник. В ответ донесся только звон бубенчиков.
Сердце у меня упало: конечно, только сырость подземелья вызвала это
болезненное чувство. Я поспешил закончить свою работу. Я вдвинул последний
камень на место, я заделал его. Вдоль новой кладки я восстановил прежнее
ограждение из костей. Полстолетия прошло с тех пор, и рука смертного к ним
не прикасалась. In pace requiescat! [Да почиет в мире! (Лат.)]
|